Глава II. Часть VII

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Итак, полагаю, что все проявления в природе не есть образы и они ничего не представляют, не выражают. Все образы и представления свойственны человеку, а воображение <создает> его представление о действительности, которую он не может осязать, но хочет, отчего у него возникает отчаянная борьба за восстановление образованной действительности, чему не покоряется беспредметно безобразная материя.
Я сомневаюсь, что все то, что у нас возникает, <только> как бы оформленные наши потребы на чисто экономических условиях, выходящих из лозунга «я есть хочу», а потому <человек прежде всего> должен преодолеть голод и удовлетворить тело. Сомнения мои возникают из того, что само тело, материя, никогда есть не хочет, <в ней> ничего не поедается и даже не обменивается, пожрать ничего нельзя, как и обменять вещества. Дело все в нашем сознании и его представлениях, которые и делают эти все выводы, и эти выводы никогда в контакте с природой не бывают, ибо природа безразлична и соединяется со всем без-различным. Безразлично утопленному быть в воде или на берегу, лежать ли на дне воды или на кладбище, раствориться ему там или тут; также безразлично воде, течь или стоять в озере, протекать ли по трубам или подыматься в ведрах. Не безразлично лишь все только сознанию человека.
Далеко не безразлична человеку <с> сознанием та или иная комбинация. Отсюда у него и получается, что природа — <это> явления, не суть оформленные сознанием, хотя она как бытие и оформляет сознание. Правда, что бытие <находится> в сильной зависимости от уровня самого сознания: чем ниже уровень сознания, тем меньше различности и тем ближе к природе, тем определение сознания становится <более> затруднительным, оформление становится [при<ми>тивным] (ведро, насос, трубовод). Из этого следует, что сознание оформилось в смысле передвижения воды сначала в форме ведра, потом насосом через трубовод, что еще не устанавливает окончательно определение и оформление сознания. Таким образом, сознание есть только один из центров идеализма, немогущее выявить мир вовне.
Итак, пройдет вековая цепь колец этой поступи сознания, и, в конце концов, ничего не оформится и ничего не определится, следовательно, ни бытие, ни сознание не есть нечто существенное, как только фикция представлений, венчающихся образом, это единственная возможная действительность идеализма, на которой стоит человек. Стоя на этой возможности, мы можем посмотреть вниз, немного снять свое зрение с образа-лика на низ, на все то, что окружает этот образ, и мы увидим, что творится у подошвы образа.
Мы должны же осознать, что образ это есть «лик милый-премилый, образ добрый, образ справедливый», на который направлены наши глаза, и того <мы> не замечаем и не видим, что творится внизу, там идет давка штыковая, пушечная, дробление черепов, и ноги и дороги в крови1.
Так, в погоне за образом люди, как маленькие дети, гоняясь за прекрасной бабочкой, падают и разбиваются. Но если удается поймать образ или бабочку красивую, то она при прикосновении повреждается и становится без-образна. Так каждый образ красив и мил, пока не обратился в действительность, там он смешается с кровью, будет забрызган кровью и оплеван.
Итак, нельзя касаться руками картины и образа, чтобы не засалить ее, его. Так, нельзя иметь надежды <на то>, чтобы люди были созданы по образу и подобию образа. Отсюда остается один выход — это недвижность перед образом, поэтому <люди> пытаются сделать его святыней, чтобы никто не смел, коснуться пальцем.
Поэтому возник Бог как нечто окончательное, недвижное, к этой неподвижности, <и мы> стремимся.
Искусство не лишено этого пути, поскольку оно идет теми же дорогами, по которым идет сознание вождя и за ним движущихся масс. Вождь, страдающий галлюцинацией, видением образа своей идеи, просит верить идущих, ибо им не суждено видеть это видение, его может видеть только вождь или единицы, страдающие теми же галлюцинациями (в большей степени страдают ближайшие ученики его). Но чтобы помочь массам и не оставить их только в одной вере, то вождь приглашает ученых и художников, чтобы по его рассказам они изобразили это видение, одни в форме предметов утилитарных, другие в форме художественных изображений. О наивный художник и ученый, как легко вас запутать, но выпутать очень трудно! Вот почему вас признают вожди и священники, ибо вы в точности изображаете видение, ясно некую реальность будущей жизни, сотворенной по этим видениям вождей. Вы образописатели.
Теперь должны быть и ясны те все нападки на ту часть Искусства, которая стала без-образной, беспредметной.
Итак, огромное событие наступило в области живописного Искусства, такое, какого история не знает, не знает того великого напряжения чувств у живописцев, победивших оба центра, сознание и подсознание; <живописцы> притемнили их совершенно, результатом чего и получилось постепенное распадение образа и предметов, наступило постепенное выпадение из поля зрения и чувств всего, привнесенного иными поведениями человека, его сознательных и подсознательных элементов.
Это состояние живописи надо считать самым выдающимся в ее истории, это был выход к Искусству как таковому, независимому от всех других элементов и жизни и мировоззрений. В этом выходе живописец должен был уже не почувствовать, а осознать, что он вышел в беспредметность, т. е. в такое место, на котором он должен построить живописное пространство, выразить живопись как таковую и сделать Искусство вне всех партий и предметно-религиозных идей.
Но случилось то, что он <живописец> по существу своему, живя только чувствами, которые не смогли осилить дальше дорогу, устали под напором сознания, опирающегося в большей степени на тюрьмы, должен был свернуть. Иные <живописцы> пошли в услужение государству, другие — образу религии, третьи — образу художественному (т. е. занялись обращением содержания жизни в лице или армейца, или рабочего, или крестьянина в художественный вечный образ), четвертые отправились к предмету как поводу, т<аким> о<бразом>, вернулись к тому месту, в котором существуют предметы, по типу которых можно создать образ или живописное выражение.
Во всех моментах <наблюдается> очевидный перевес сознания, которое безусловно диктует свою власть чувству, заставляя его полюбить те образы, которые возникают у него, и если ему удастся добиться этого, то, конечно, в будущем вся жизнь будет вновь возведена в Мону Лизу2. Это нужно сознанию вождей и священников.
Отсюда художнику опять не увидеть своего миростроения, как не видел раньше, ибо не осознал беспредметного выхода.
Иногда бывает, что при первом знакомстве с человеком не получаешь к нему никаких симпатий, он не нравится, но когда поживешь с ним, понравится. Так и в другом деле. Иные идеи не воспринимаются, но <если> поживешь с ними под их постоянным разговором, <то они> становятся приемлемыми; так бывает и с живописцами, когда им не нравится тип, но работая над ним, начинает нравиться — тогда чувства полюбят и сотворят образ.
Сезанн уже представлял собою в истории предметной живописи выдающуюся точку в движении живописного чувства, разлюбляющего предметы. Температура этого чувства была велика и покрывала собою все чувства живописные на протяжении всей истории, высокая температура чувства притемняла все остальное, сознание ничего не могло сделать, ослабев в борьбе с сезанновским эмоционализмом, и не могло восстановить в целом предметно-живописный рационализм, результатом чего получалась запись наибольшего пространства холста живописью как таковой.
В Сезанне, следовательно, мы имеем уже приближение к живописи как таковой, и как только живописное искусство Сезанна начинает приближаться к живописной действительности, теряя предметность, сейчас же увеличивается негодование и у художников, и у общества. Как раз когда живописец приблизился к выражению живописного содержания, т.е. установил <с ним> эмоциональный контакт, его начинают преследовать за бессодержательность.
Его произведения не признаются, ибо нет в них выражения лица; картины, говорят, неудобны, как будто в них нужно помещать паклю или другой хлам.
В Сезанне уже жутко видеть невооруженным глазом трещину, которой разделяется связь утилитарного предмета с Искусством. Таким образом в сезаннизме и общество должно было распасться также на две части, должен <был> наступить разрыв сознания с чувством, сознание перестало быть концентром, в котором связуется сознательно построенный предмет с художественной его стороной, пристроенной3 чувством. Наступает разрыв рационализма с эмоционализмом.
Таким образом, в сезаннизме наступает раздевание предмета и оставление его в полной наготе. Я уже говорил о том, что общество не любит предметов нагих, <так> как боится своей наготы и прикрывает наготу свою Искусством, а <к> предмету прикладывает Искусство. Так же и вождь не будет выступать на митинге нагим, как и священник не будет голышом служить обедню.
Вот и это послужило для общества раздражительным фактом, и оно обрушилось на Сезанна и сезаннистов, не давая себе точного ответа <почему>. Но появилось течение в этом, же обществе. Я бы назвал это течение <течением> «чистого утилитаризма», которое объявило Искусство совершенно ненужным4. Это <все> равно, <что> отвергнуть чувство прекрасного, но так как это не так легко сделать, то это течение стало искать прекрасное в утилитарных гражданских или других технических явлениях красоты.
Таким образом, <оно> само доказало, что прекрасное не осознается сознанием, как только чувством. Но здесь это течение попадает в безвыходное условие: чисто утилитарная вещь строится по сознанию наибольшей полезности, а при таком условии никакой пристройки чувства прекрасного не может быть, а допустив последний элемент — значит вернуться к старому обществу, выработавшему закон существования предмета из обоих состояний: Искусства и утилитаризма («полезное с прекрасным»).
1Это сознание пытается идти по стопам образа и построить мир не в себе, но вовне, из идеалистического в материалистический.
2Следует отметить, что в 1914 году Малевич написал «Композицию с Моной Лизой» (ныне в ГРМ), программную «заумную» картину с коллажными включениями: художник перечеркнул приклеенную репродукцию знаменитого портрета Леонардо да Винчи, а под ней поместил газетную наклейку со словами «передается квартира».
3Пристроенный — полонизм Малевича, от польского «przystroic» — «украсить, убрать, нарядить».
4Речь идет о доктрине художников-«производственников», объявивших «смерть станковой картины» и выдвинувших в начале 1920-х годов лозунг «Искусство в производство»; «производственники» вскоре самоопределились как конструктивисты. В каталоге выставки «Конструктивисты» (1922, Москва, участники: братья В. А. и Г. А. Стенберги, К. К. Медунецкий) декларировалось: «Конструктивисты объявляют искусство и его жрецов вне закона».
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
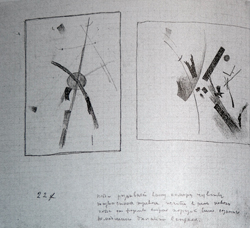 Супрематизм: ощущение тревоги (1917 г.) | 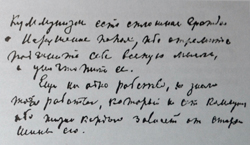 Страница с записью Коммунизм есть сплошная вражда... (сер. 1920-х гг.) |  Казимир Северинович Малевич. Живопись Утро после грозы. |